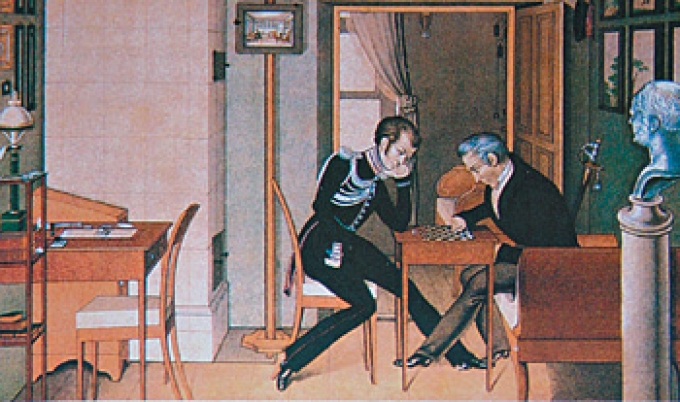Выбор этих кейсов, при всей субъективности и прихотливости, не случаен: хронологически они принадлежат ко времени правления Николая I, при котором и было создано это отделение Собственной Его Величества канцелярии. Кроме того, они демонстрируют пристальный и недружелюбный интерес тайной полиции к совершенно разным, порой полярным группам и классам общества: от высшей бюрократии до крестьян (фокусируясь на чиновниках), к западникам и славянофилам, к явным преступникам, нарушающим сразу несколько законов (как юридических, так и этических) – и к совершенно невинным людям, чьи имена были лишь упомянуты в перлюстрированной переписке с людьми менее благонадежными.
В этом отношении Третьего отделение, наблюдавшее, среди прочего, «за мнением общим и духом народным», было довольно демократическим учреждением – в том смысле, что свое око обращало повсюду, без исключений.
Количество дел Третьего отделения, хранящихся теперь в ГА РФ (фонд 109), огромно: в путеводителе по фонду значится 231 опись, содержащая 56564 единиц хранения.
В своем отчете Александру II (в 1876 г.) начальство Третьего отделения с гордостью преподносило собственную статистику, призванную свидетельствовать о постоянной и неусыпной работе его штатов:
«До 1838 г. ежегодное число входящих бумаг колебалось между 10 и 12 тысячами, исходящих было до 4 тысяч, всеподданнейших высочайших повелений объявлялось до двухсот, новых дел заводилось около тысячи. С 1839 по 1861 г. исходящих от 5 до 7 тысяч, всеподданнейших докладов – от 300 до 600, высочайших повелений объявлялось от двухсот до четырехсот пятидесяти, новых дело заводилось от 1400 до 2 тысяч».
Но немалая часть этих «бумаг» касалась вопросов столь мелких и незначительных, а обвинение часто основывалось на источниках столь ненадежных, что через много лет читателю эти дела кажутся не более чем курьезными случаями, странными «анекдотами» (основными источниками сведений были пересказы и записи слухов и толков, выписки из перлюстрированных писем, данные доносов, причем доносчики и штатные шпионы могли действовать и исходя из собственных корыстных целей). К сожалению, «курьезными» эти дела не казались тем, к кому приходили жандармы, чтобы проводить их до известного здания «у Цепного моста».
Страх перед возможным арестом даже у людей вполне благонадежных усиливался традиционной непредсказуемостью действий и решений тайной полиции: действия ее администрации, а следовательно, и всей иерархии, не регулировались ни действующим законодательством, ни каким-либо четким уставом или сводом правил.
От неожиданного ареста не были застрахованы даже самые лояльные и лично преданные царю чиновники высших рангов.
Так, например, М.А. Корф в своем дневнике 24 января 1839 года делает такую запись:
«Отобедав вчера спокойно в своей семье, я думал несколько отдохнуть перед балом, который назначен был на вечер для царской фамилии… как вдруг докладывают мне, что приехал камердинер от гр. Бенкендорфа… это приглашение крайне меня встревожило. Чего хочет от меня так экстренно секретная полиция, с которою по роду дел Государственного совета мои сношения так редки? При всей чистоте моей совести я крепко испугался, поверяя в душе моей, не сказал ли я где-нибудь слова, которое могло навлечь на меня неудовольствие Государя, и опасаясь еще более какого-нибудь безыменного клеветнического доноса на меня или моих чиновников».
Оказалось, что к Корфу у начальника Третьего отделения была совершенно посторонняя, хоть и мрачная, просьба: опечатать бумаги одного высшего чиновника – в случае кончины этого последнего.
У многих других людей общение с тайной полицией сложилось не так безболезненно.
Таким образом, характер обвинений со стороны Третьего отделения предугадать было почти невозможно: оно занималось буквально всем. Неопределенность его сферы действия, или, точнее, отсутствие ясной систематизации заметны даже в описании целей и задач его подразделений – экспедиций.
Не желая запутать читателя, приведу самый ясное и краткое их описание (его дают авторы предисловия к сборнику ежегодных отчетов Третьего отделения):
«Круг обязанностей III Отделения был, как известно, весьма обширен – от “распоряжений” по делам высшей полиции до сбора сведений “о всех без исключения происшествиях”. Четыре экспедиции, на которые первоначально подразделялось это учреждение, ведали следующими “предметами”; 1-я - наблюдение “за мнением общим и духом народным”, за поднадзорными лицами, а также за действиями государственных чиновников разного ранга; 2-я - контроль за религиозными сектами и местами заключения “государственных преступников”, за различными обществами (научными, культурными, просветительными и т.д.) и изобретениями, разбор многочисленных жалоб и прошений на “Высочайшее Имя”, дела о фальшивых ассигнациях и документах, а также ведение личным составом отделения; 3-я - контрразведка, “все постановления и распоряжения об иностранцах, в России проживающих, в пределы государства прибывающих и из оного выезжающих”; 4-я - сбор и систематизация сведений о происшествиях в империи (пожары, эпидемии, грабежи, убийства и пр.). В 1842 г. возникла еще одна экспедиция, взявшая под свою опеку цензуру».
Кроме того, за время своего существования Третье отделение последовательно смещало основной фокус своего внимания на разные области государственного попечения, концентрируясь на наиболее болезненных и важных в тот или иной момент.
Так, после вступления на престол Николая I по понятной причине «деятельность III отделения по части собственно политической… ограничивалась почти исключительно распоряжениями, относящимися до осужденных декабристов». Польское восстание 1830-31 гг. привело к «новому расширению деятельности III отделения» – на Польшу и дальше в Европу, в виде заграничной агентуры.
После европейских революций 1848 г. Третье отделение настолько активизировалось в своем наблюдении «за духом народным», что современники вспоминали, как боялись сказать лишнее слово даже в присутствии слуг.
«Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки; вся бродячая дрянь, не способная к трудам службы; весь обор человеческого общества подвигнулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом. Вскоре никто не был спокоен из служащих; а в домах боялись собственных людей, потому что их подкупали, боялись даже некоторых лиц, принадлежащих к порядочному обществу и даже высшему званию, потому что о некоторых проходил слух, что они принадлежат к тайной полиции», – писал М.А. Дмитриев.
Таким образом, с одной стороны, у Третьего отделения существовали постоянные, традиционные объекты внимания, за которыми оно пристально следило. Среди них были иностранцы, различные общества, религиозные секты, студенты и профессура, литераторы и журналисты, а также те, кто когда-то имел несчастье попасть в поле зрения тайной полиции.
С другой – в эти «группы особого внимания» de facto попадали практически все, кто сколько-нибудь выделялся из толпы: адресаты писем всех вышеперечисленных, те, кто был замечен в обсуждении современной политической ситуации, фигуранты доносов и многие другие.
Аресту подвергались и представители совершенно полярных групп, и среди них как западники, так и славянофилы.
В ноябре 1840 г. А.И. Герцен в письмах к родным и приятелям упоминал петербургские новости: «На прошлой неделе кричали о том, что будочник у Синего моста зарезал и ограбил какого-то купца и, пойманный, повинился, что это уже шестое душегубство в этой будке».
Через несколько дней Герцена вызвали в Третье отделение, где пообещали снова отправить в Вятку, откуда он относительно недавно вернулся из ссылки. При всей недостоверности «Былого и дум» как исторического источника диалог между Герценом и начальством тайной полиции записан (по утверждениям компетентных современников) весьма точно:
«– Я совершенно ничего не понимаю, – сказал я, теряясь в догадках.
– Не понимаете? – это-то и плохо! Что за связи, что за занятия?.. Все политика да пересуды, и все во вред правительству. Вот и договорились; как вас опыт не научил?.. Вот оно – наклонность к порицанию правительства. Скажу вам откровенно, одно делает вам честь, это ваше искреннее сознание, и оно будет, наверно, принято графом в соображение.
– Помилуйте, – сказал я, – какое тут сознание, об этой истории говорил весь город, говорили в канцелярии министра внутренних дел, в лавках. Что же тут удивительного, что и я говорил об этом происшествии?
– Разглашение ложных и вредных слухов есть преступление, не терпимое законами.
– Вы меня обвиняете, мне кажется, в том, что я выдумал это дело?
– В докладной записке государю сказано только, что вы способствовали к распространению такого вредного слуха. На что последовала высочайшая резолюция об возвращении вас в Вятку.
– Вы меня просто стращаете, – отвечал я, – Как же это возможно за такое ничтожное дело сослать семейного человека за тысячу верст, да и притом приговорить, осудить его, даже не опросив, правда или нет?
– Вы сами признались.
…Старик подошел к столу, порылся в небольшой пачке бумаг, хладнокровно вытащил одну и подал. Я читал и не верил своим глазам; такое полнейшее отсутствие справедливости, такое наглое, бесстыдное беззаконие удивило даже в России».
Не менее, если не более ярко характеризует подход тайной полиции (и понимание ею своей цели) монолог Дубельта, воспроизведенный Герценом в «Былом и думах»:
«Да, я слышал и говорил об этом, и тут мы равны; но вот где начинается разница – я, повторяя эту нелепость, клялся, что этого никогда не было, а вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции. Это все несчастная страсть de denigrer le gouvernement – страсть, развитая в вас во всех, господа, пагубным примером Запада. У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи; у нас управление отеческое, все делается как можно келейнее... Мы выбиваемся из сил, чтоб все шло как можно тише и глаже, а тут люди, остающиеся в какой-то бесплодной оппозиции, несмотря на тяжелые испытания, стращают общественное мнение, рассказывая и сообщая письменно, что полицейские солдаты режут людей на улицах».
Герцена не сослали повторно в Вятку только из-за задействованных высоких связей (среди прочих хлопотала и подруга молодости его отца, О.А. Жеребцова, внучка которой была замужем за начальником Третьего отделения графом А.Ф. Орловым).
Лучший друг Герцена – Н.П. Огарев – был арестован Третьим отделением позже, в начале «мрачного семилетия».
История ареста Третьим отделением Огарева и его соседа, предводителя дворянства, либерала А.А. Тучкова занимает в делопроизводстве этого учреждения несколько сотен страниц (и составлена в пяти частях, как драма). В 1849 г. Тучковы вернулись из-за границы, и между младшей дочерью Натальей и Огаревым возникли романтические отношения. На официальный развод его жена, давно живущая отдельно, не согласилась, и Огарев подумывал о тайном отъезде за границу, чтобы венчаться там; для этого он занялся оформлением продажи остатков своих имений друзьям. Сплетни об этом не прошли мимо тестя Огарева (Л.Я. Рославлева), привыкшего к регулярным денежным траншам от зятя, и пензенского губернатора А.А. Панчулидзева, давно имевшего зуб на либерального Тучкова, нередко мешавшего его аферам.
Панчулидзев написал в Третье отделение целую серию доносов на Огарева и Тучкова, отправив последнему заодно и официальную жалобу о том, что «Огарев… носит длинную бороду».
Рославлев же в своих доносах (в том же 1849 г.) описал все известные ему сплетни об Огареве, его друзьях и семействе Тучковых, и обвинил их в создании коммунистической секты. Это обвинение, учитывая недавно открывшееся дело Петрашевского, не могло остаться без внимания.
«…Огарев, попавши в дружбу Тучкова, Пензенской губ. Инсарского уезда предводителя, как видно по фактам, вступил под руководством Тучкова, в секту коммунистов. Я убедился в том не молвою, но делами: Тучкова, Огарева и Сатина друга его… Огарев, оставивши жену, будучи ей должен по крепостным актам, значительную сумму, которую конечно и заплатил бы, если б не попал в коммунисты, под руководство Тучкова, как видно, старейшего секты настоятеля. Вот каким образом все свершилось: Тучков отдал дочь свою Огареву, как отдают несчастных дев в домах зазорных. Огарев насладившись своею находкою, по чему не знаю, рассудил передать ее Сатину, другу своему уже в жены, давши ей четыре ста душ родового имения в приданое. Не выходя из круга действий, он принял от Тучкова и другую дочь его деву. Господа коммунисты хлопотали неутомимо обобрать несчастного, в чем и успели, пустив его с барышней наслаждаться в Крым. Ясно доказали мне такими поступками и ограблением Огарева, что у них все было подготовлено выпроводить его за границу, а настоящую жену его, дочь мою, оставить без заплат. <…> Я, как отец, скорбящий душою об участи дочери моей, решился высказать Вашему Сиятельству все это с откровенностью семидесятилетнего старика, представляя правительству раскрыть, может быть, и далее разлившееся зло такого рода…».
Последовавшая обширная переписка Третьего отделения, Панчулидзева, министра внутренних дел Л.А. Перовского в итоге привела к обыску у всех фигурантов дела и аресту Третьим отделением Тучкова, Огарева, его друга Сатина и еще нескольких человек.
Весьма характерно, что большинство вопросов, предложенных тайной полицией Огареву, касались его личной жизни и, среди прочего, содержали такие пункты: «Почему в бумагах ваших находятся одни самые незначительные письма и записки?».
Арест продолжался месяц, позже все фигуранты попали под пристальный полицейский надзор, Тучкова лишили должности уездного предводителя дворянства и запретили на два года въезд в Пензенскую губернию.
Интересно, что губернатор Панчулидзев (печально известный особым размахом беззаконий в подведомственной ему губернии) в своих доносах заодно упомянул и фамилии нескольких других своих недоброжелателей, пытавшихся противодействовать ему.
Среди них был и помещик И.В. Селиванов, оставивший любопытные воспоминания о своем аресте в Третьем отделении. Селиванова в итоге, в виде особой снисходительности, сослали в ту же Вятку, но так и не удосужилось объяснить, за что.
Описание обстоятельств ареста и допросов достойны цитирования:
«…Мы завернули у Цепного моста во дворе дома третьего отделения и меня ввели в большую комнату… в которой, кроме буфетного шкафа красного дерева и нескольких ломберных столов и стульев, ничего не было... В углу стояла кровать, покрытая чистым бельем и белым шерстяным одеялом…
На следующее утро пришел ко мне Л.В. Дубельт и начал разговор расспросами:
– Хорошо ли вам? Тепло ли? Что курите, табак или сигары? Не имеете ли каких-нибудь особых привычек? И проч.
Я отвечал, конечно, что мне очень хорошо, что в комнате так тепло, как только можно ожидать… Через полчаса явился ко мне дежурный штаб-офицер с теми же самыми вопросами и сказал, что ежели я буду иметь в чем-нибудь надобность… он все доставит, что можно. Я попросил книг и бумаги с чернилами и пером… Дежурный офицер пожелал узнать, какого рода книги я желаю…Три дня меня не беспокоили ничем».
Тот же унтер-офицер приносил еду (из соседнего трактира) и предлагал принести водки, от которой Селиванов отказался.
«Страха у меня не было, потому что совесть была чиста. Явно, что меня подозревали в каком-то политическом преступлении, а такого у меня никогда, в течение всей моей жизни, за душою не было».
В понедельник Селиванова вызвали к Дубельту, где предъявили письмо к К.Д. Кавелину: в нем Селиванов описывал случившийся неурожай, своих отпущенных на оброк крестьян и сетовал, «как тяжело положение помещика… как велика нравственная обязанность, на нем лежащая». Письмо это оправлено не было, его достали из корзины для бумаг. Поводом к обвинению Селиванова был адресат этого неотправленного письма, на котором была пометка «дело о [К.Д.] Кавелине, сильно замеченном в либерализме, производится в третьей экспедиции».
Селиванов имел несчастие вступить в дискуссию с Дубельтом (по его мнению, вина Герцена и Бакунина совершенно несопоставима) и тем очень рассердил начальника штаба жандармов.
Селиванову предложили вопросы для письменного ответа, и, несмотря на его совершенно промонархические заявления, ответы его не понравились. Судьбу его решила интерпретация Дубельтом написанной когда-то Селивановым повести. Повесть была совершенно благонамеренного содержания, но автору предложили не спорить с мнением на ее счет начальства: «Леонтий Васильевич рассердится, если вы напишете не то, что я вам говорю», – с искренней доброжелательностью посоветовал Селиванову служащий.
На аудиенции глава Третьего отделения граф А.Ф. Орлов сказал Селиванову: «Вы 3-е отделение за нос водите!» – но приговор, по всеобщему мнению, назначили самый мягкий – ссылка в Вятку.
Так, жандармский генерал Куцинский, сопровождавший до этого Селиванова в Петербург и проникшийся к нему симпатией, был счастлив такому приговору:
« – Ну, слава Богу! – отвечал он, обнимая меня, причем я чувствовал, что несколько слезинок упало мне на лицо… Благодарите бога, что кончилось так счастливо…
– Но скажите, в. п-во, в чем меня обвиняют? – спросил я, - чтоб по крайней мере я знал свою вину и мог остеречься от нее в будущем.
– Не могу вам сказать этого…».
Позже Селиванов косвенными путями узнал, что аресту и ссылке он подвергся из-за доноса губернатора Панчулидзева.
В это же время Третье отделение проводило аресты и в рядах славянофилов:
Так, А.В. Никитенко в дневнике 1 июня 1849 г. записывал: «<Ф. В.> Чижов был схвачен по повелению правительства на границе, у таможенной заставы, и в качестве опасного славянофила, с своей бородой, привезен в III отделение. После девятидневного заключения и нескольких допросов он третьего дня выпущен на волю.
Он был у меня и рассказал мне много любопытного о вопросах, которые ему предлагались, и о своих ответах на них. Ответы эти он давал сначала устно, а потом сам же излагал на бумагу, для доклада государю… Во второй части своей исповеди он явился горячим патриотом, совсем в духе самодержавия, православия и народности, чуждой всего европейского и даже враждебной Европе. Он в припадке фанатизма даже воскликнул, что «Петр I был величайшим и опаснейшим революционером» (это уже не мое предположение, а Чижов действительно сказал это, как сам мне признался).
В заключение его почтенные духовники, Леонтий Васильевич <Дубельт> и граф Орлов, остались им вполне довольны… Его даже поблагодарили, но заметили ему на прощанье, что он слишком пылок и потому ему еще пока нельзя разрешить издание журнала в Москве».
Еще до того, как известно, был арестован Ю.Ф. Самарин и оказался почти на две недели в Петропавловской крепости, но после разговора с императором, сделавшего ему отеческое внушение, его выпустили.
«На смену» Самарину за несколько неосторожных фраз в частной переписке под арест пошел И.С. Аксаков, «брат знаменитого славянофила, который расхаживает по Москве в старинном русском охабне, в мурмулке и с бородою» (пояснял Никитенко в дневниковой записи).
Аксакова освободили довольно быстро: «Его только три дня продержали в III отделении. Хотели узнать его образ мыслей и в этом духе делали ему вопросы, на которые он отвечал письменно. Государь, говорят, очень благосклонно принял эти ответы», - записал Никитенко 26 марта.
Третье отделение обращало свое внимательное око и на другие сословия. Так, в 1849 г. был арестован бывший крепостной С.Н. Олейничук: он закончил гимназию, знал несколько иностранных языков, получил вольную от своего помещика и некоторое время работал учителем. Вполне закономерно Олейничук считал крепостное право злом, о чем он и сделал несколько черновых записей. В начальственной формулировке его действия получили такую характеристику: «Олейничук выражается, что дворяне торгуют крестьянами, и в этом случае у него прорывается много мыслей, противных настоящему порядку вещей и даже могущих вредно действовать на понятие народа».
В ноябре 1849 г. доклад об Олейничуке был передан А.Ф. Орлову: тот предложил заключить обвиняемого в Соловецкий монастырь, однако Николай I решил, что достойной карой будет лишь заключение его в Шлиссельбургской крепости. Коменданту было предписано запереть узника «в секретный замок и не допускать никаких и ни с кем сношений». В 1852 г. бывший крепостной, по сообщению коменданта, «Божией волей помре от долговременной болезни».
Были, впрочем, и такие, кто свой арест в Третьем отделении вспоминал со слезою умиления (правда, уже освободившись).
Курьезным случаем стал арест поручика лейб-гвардии гренадерского полка Жеденова, точнее, курьезным здесь можно назвать не сам факт ареста, а описание всего трагикомического приключения простодушным и пылко-патриотическим Жеденовым.
В декабре 1848 г. Жеденова неожиданно вызвали к гр. Орлову, как обычно, не указав причины. Весьма характерно, что Жеденов, дожидаясь назначенной аудиенции, заехал к старым знакомым, которых попросил «о том, что если через три дня не возвращусь, то прошу собрать все мое имущество и продать его»: видимо, по слухам, попавшие в Третье отделение пропадали совсем.
Поручику устроили очную ставку в присутствии Орлова, Дубельта и некого «клеветника», которого он лишь мельком видел когда-то. Никого из неблагонадежных людей из показанного ему списка Жеденов не знал, во время очной ставки стало очевидно, что доносчик врет. Когда это выяснилось, «генерал Дуббельт закатил» доносчику-клеветнику пощечину. Однако при этом доносчику заплатили, а офицера посадили на неопределенный срок.
«За что? Надолго ли? – было известно одному Богу! В первый раз как служу под арестом… Улик, чтобы меня так арестовать, никаких нет, да и не может и быть, их положительно нет, – меня, между тем, считают государственным преступником», – плакал арестованный.
Содержали арестанта, однако, неплохо – среди прочего, принесли еду «в судочках», спрошенную им «бутылку Медоку», «пачку сигар Геллера, две книги «Отечественных записок». Примечательно, что, судя по воспоминаниям арестантов, для чтения им приносили именно «Отечественные записки» – журнал, который в том же 1848 г. чуть не запретили, а редактора едва самого не отправили туда, где сидел офицер.
Закончилось все, к счастью, хорошо – за поручика (как ему сообщили) хлопотали великий князь Михаил Павлович и наследник цесаревич. При этом не совсем понятно, почему для справедливого разбирательства в деле явно невинного и несправедливо оклеветанного Жеденова требовалось вмешательство столь высоких лиц.
Жеденов – к своему восторгу – удостоился аудиенции у Николая I и наследника, и счастливый финал истории здесь наполнен радостью и поцелуями:
«Поклонился ниже пояса, с чувством глубочайшего благоговения, сам вытянулся в струнку, смотрю спокойно в очи царевы.
– Я тебя желал видеть, успокоить, утешить, обласкать.
Сказавши это, соизволил сделать его величество шаг вперед.
Царь протягивает державную свою руку правую, бросаюсь на колени, целую пламенно монаршую руку, обнимаю обеими руками.
– Что ты делаешь? Ко мне, показывая на грудь, - и прямо в губы, слышишь ли?
Я обнял царя, и получил взаимное троекратное целование царя государя.
– Служи так, как служил, все будет хорошо. Благословляю тебя (изволил осенить крестным знамением). Ступай к великому князю и скажи, чтобы он тебя расцеловал».
Безусловно, расследования и аресты Третьего отделения вовсе не исчерпывались подобными анекдотическими и нелепыми примерами. Иногда, особенно в начале своего существования, тайная полиция выявляла и наказывала и очевидных преступников.
Однако, с течением времени, этот государственный институт стагнировал, его методы все более явно демонстрировали неэффективность, и множество беззаконий, в том числе крупных и серьезных, спокойно уживались рядом с предполагаемо всеведущими агентами Третьего отделения.
Так, например, упомянутый выше пензенский губернатор Панчулидзев спокойно правил до 1859 г., удивляя даже привыкших ко всему современников размахом своего казнокрадства и всевозможных беззаконий. О них правительство узнало не от Третьего отделения, а из статьи, опубликованной «изменником» А.И. Герценом в «Колоколе».
«Видно, до Петербурга дошли, наконец, слухи о том, что творится в Пензенской губернии, и туда назначена была ревизия в лице сенатора Сафонова. Сафонов… Вышел из гостиницы, сел на извозчика и велел себя везти на набережную.
– На какую набережную? – спросил извозчик.
– Как на какую! – отвечал Сафонов. – Разве у вас их много? Ведь одна только и есть!
– Да никакой нет! – воскликнул извозчик.
– Оказалось, что на бумаге набережная строилась уже два года, и что на нее истрачено было несколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали», - рассказывал после пострадавший от Панчулидзева помещик Селиванов.